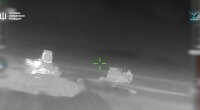Встреча Владимира Зеленского с Касым-Жомартом Токаевым 23 сентября 2025 года в Нью-Йорке стала не просто продолжением августовского телефонного разговора. Это сигнал о том, что Киев планомерно разворачивает внешнюю политику в сторону Центральной Азии – региона, который перестал быть периферией и превратился в один из ключевых узлов глобальной экономики и безопасности. В отличие от предыдущих попыток опираться на Турцию как посредника в общении с Пекином, ставка на Астану выглядит более прагматичной: Токаев имеет мощный дипломатический бэкграунд, владеет китайским языком и постепенно выстроил с КНР отношения доверия, необходимые для деликатной политической коммуникации.
Этот выбор усиливает структура региона. Казахстан – безусловный лидер Центральной Азии: более 60% совокупного ВВП региона, около 70% всех прямых иностранных инвестиций и почти 80% экспорта приходится именно на него. Номинальный ВВП страны в 2025 году оценивается примерно в 300,5 млрд долл. США, ожидаемый рост – около +4,9%. Экономика диверсифицируется: наряду с нефтегазом развиваются металлургия, машиностроение, транспорт, цифровые сервисы. В то же время именно Казахстан является ключевым звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), который связывает Китай и Европу через Каспий и Южный Кавказ, обходя россию. Для Украины это критично: после 2014 года зависимость от российской логистики стоила нам значительной части центральноазиатских рынков.
Региональная динамика подтверждает стратегический смысл этого поворота. По оценкам, экономики Центральной Азии росли примерно на +5% в 2024-м и могут ускориться до +5,9% в 2025-м. Наряду с Казахстаном быстро модернизируется Узбекистан (ВВП 2025 года около 132,5 млрд долл., темпы +5,9%), тогда как меньшие экономики – Кыргызстан (около 19,9 млрд) и Таджикистан (примерно 14,8 млрд) – демонстрируют одни из самых высоких темпов прироста в регионе (+6,8% и +6,7% соответственно). Туркменистан, имея ВВП около 89,1 млрд долл. и более умеренный рост (~+2,3%), сохраняет статус важного экспортера газа. В центре этой мозаики – логистика: грузопотоки Среднего коридора выросли с ~0,8 млн тонн в 2021 году до ~4,5 млн тонн в 2024-м, а расчетная пропускная способность ныне оценивается около 6 млн тонн в год. Цели амбициозные: 10 млн тонн к 2027 году и 15 млн – к 2030-му; потенциал – до 25 млн тонн при условии цифровизации, устранения административных барьеров и выравнивания тарифов.
Китай видит Центральную Азию как пространство, где сходятся три приоритета: торгово-логистическое "сшивание" Евразии в рамках "Один пояс, один путь", безопасность собственного Синьцзяна и контроль над критическими ресурсами.
Пекин институционализировал формат "Китай–Центральная Азия" (С+С5), открыл секретариат в Сиане и нарастил товарооборот с пятеркой до ~90 млрд долл. в 2023-м (плюс более 27% за год). Безопасностный компонент тоже не случаен: поставки вооружений, обучение, инфраструктурные проекты – это способ удерживать стабильность коридоров, которые сшивают китайские промышленные зоны с европейскими рынками. На этом фоне растет роль Казахстана как "надежного провайдера доступа" – и к логистике, и к ресурсам.
Ресурсное измерение – отдельная история. Китай удерживает 75–90% глобального рынка редкоземельных элементов, но именно Казахстан может частично разбалансировать эту монополию. По оценкам, в стране потенциально более 5 000 неосвоенных месторождений РЗЭ и редких металлов с совокупной возможной стоимостью около 2 трлн долларов; объявленное в 2025-м месторождение "Zhana Kazakhstan" лишь усилило эти ожидания. Государство планирует расширить площадь геологических исследований с ~1,6 до ~2,2 млн км² к 2026 году, а целевая доля сектора РЗЭ – до 7% ВВП в перспективе. Узкое место – глубокая переработка; без нее страна теряет добавленную стоимость, поэтому курс на создание национального игрока по переработке выглядит логичным, хоть и требует 3–5 млрд долл. и 10–15 лет цикла.
Европейский фактор дополняет китайский: ЕС – крупнейший инвестор в регионе на протяжении последнего десятилетия (более 40% ПИИ, суммарно более 100 млрд евро). В 2024 году товарооборот ЕС с Казахстаном приближался к 50 млрд долл., а на регион запущен финансовый "локомотив" в рамках Global Gateway – 12 млрд евро, из них ~3 млрд – на транспорт и логистику и ~2,5 млрд – на критические минералы. В то же время именно Казахстан в 2024-м аккумулировал ~63% всех ПИИ Центральной Азии; приток капитала вырос на ~88% – до ~15,7 млрд долл., в том числе благодаря крупным сделкам в газопереработке и магистральной инфраструктуре. Этот баланс сил означает: Астана – главный "конвертер" внешнего спроса на инвестиции в реальные проекты региона.
Для Украины в такой конфигурации открывается несколько практических треков.
- Во-первых, Средний коридор позволяет развести риски Черного моря и снизить уязвимость к российским блокадам.
- Во-вторых, совместные производства: наша инженерная база и доступ к рынку ЕС, с одной стороны, и ресурсы и энергоемкость Казахстана – с другой – создают условия для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью (металлургия, химия, машиностроение, агропереработка) с "коротким" выходом на ЕС.
- В-третьих, критические минералы: титановая цепочка, уран, редкоземельные – отрасли, где совместные кластеры глубокой переработки могут дать Украине статус не только транзитного, но и технологического звена глобальных цепочек.
- В-четвертых, энергетика и "зеленый" переход: интересы ЕС в декарбонизации совпадают с потенциалом Центральной Азии как поставщика энергоносителей и критических материалов.
Плюс у нас есть на что опереться. По состоянию на 1 августа 2024 года в Казахстане действовало около 1,5 тыс. компаний с участием украинского капитала, из них ~290 – совместные предприятия; по этому показателю Украина занимала 7-е место среди иностранных инвесторов. Этот пласт кооперации стоит "разморозить": устранение искусственных барьеров, возникших в результате конфронтации с рф и логистической зависимости от ее маршрутов, способно быстро вернуть украинский бизнес в региональные ниши.
На этом фоне логика нью-йоркской беседы понятна. Речь идет не только о политике – о практике: синхронизация правил и тарифов на Среднем коридоре, совместные хабы и терминалы, страховые механизмы для длинных перевозок, "вшивание" казахстанских товаров в европейские цепочки через украинскую производственно-логистическую инфраструктуру. Так же естественной выглядит тема критических минералов: Украине нужны длинные инвестиционные циклы и технологии переработки; Казахстану – каналы добавленной стоимости и доступ к европейскому рынку. В паре это складывается в рабочую модель.
Наконец – посредничество. Накануне возможной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина роль "переводчика" между Киевом и Пекином становится особенно чувствительной. В отличие от Турции, которая не смогла обеспечить для Украины ощутимого сдвига в позиции Китая, Казахстан имеет для этого больше реальных рычагов: от глубины двусторонних отношений до личного авторитета Токаева в китайских элитах. Именно поэтому ставка на Астану выглядит не ситуативной, а стратегической.
Итог прост: Центральная Азия – это не "дальнее соседство", а пространство, в котором решается архитектура новых цепочек стоимости, логистики и ресурсной безопасности. Встреча Зеленского и Токаева вписывает Украину в эту архитектуру – как партнера, а не пассажира. Если Киев и Астана последовательно пройдут путь от политических сигналов до институциональных договоренностей, мы получим рабочую альтернативу российским маршрутам, место в "клубе" критических минералов и дополнительный канал влияния на дискуссии с Китаем. Это именно тот случай, когда география, экономика и дипломатия складываются в один пазл.