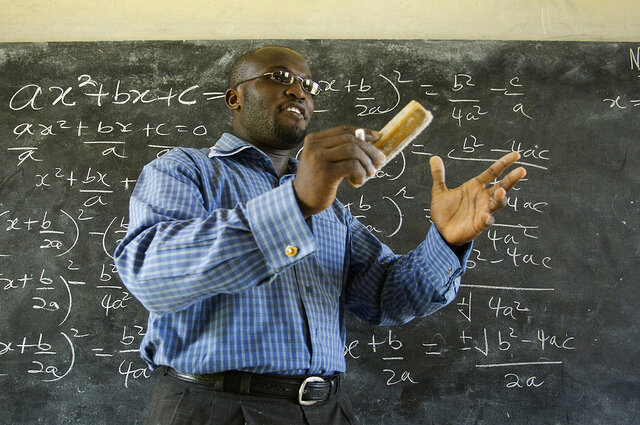
В истории всех европейских систем образования возникали некие критические моменты, моменты исторической турбулентности, в которых именно университет оказывался тем местом, где производилась новая картина мира. Как правило, это происходило в ситуациях серьезных политических кризисов. Любопытно, что двусмысленная связь университета и политического кризиса обнаруживается как на самых ранних этапах европейской истории, так и в современных университетских системах.
Начнем с современности. Я приведу пример, который мне близок по опыту работы на Балканах. До войны в Боснии и Герцеговине было четыре университета – в Сараеве, в Баня-Луке (культурном центре боснийских сербов), Мостаре (столице Герцеговины) и Тузле. Университет Сараева самый старый (1949) и крупный: на его двадцати пяти факультетах в 80-х годах училось более тридцати тысяч студентов ежегодно. В 1992-1995 годах были полностью разрушены пять факультетов и библиотека, насчитывавшая два миллиона книг, еще девять факультетов пострадали от бомбежек.
Что происходит с вузовской системой в годы войны? Вопреки ожиданиям, она не исчезает, а стремительно расширяется. В 1993 году сразу две педагогические академии открываются в Зенице и Бихаче. В том же Бихаче создается институт механизации машиностроения. Университет в заселенной преимущественно боснийцами Тузле усиливается за счет открытия новых факультетов философии и коррекционной педагогики. В Сербскую Республику перебираются преподаватели-сербы из Сараевского университета и университета Тузлы. Создается новый «Сараевский университет Сербской Республики». Примечательный факт: в 1993 году в разгар боевых действий принимается Закон об университетах, определяющий административную структуру вузов Боснии. По этому закону факультеты наделяются самой широкой автономией. (Кстати, британский закон об образовании тоже принимался в разгар войны – в 1944 г.)
Курс на увеличение числа вузов сохранился и в послевоенное время. В период с 1995 по 1998 годы в Боснийско-хорватской федерации и Республике Сербской появляется по шесть новых институтов. Вернувшаяся с фронтов молодежь оседает в этих образовательных центрах. Рост числа студентов не прекращается до начала 2000-х. К этому моменту каждая из общин уже имеет развитую, но замкнутую на себя сеть вузов, главное предназначение которых – удержание национальных автономий. Университеты становятся местами производства новых, размежевавшихся Балкан. Яркая деталь: среди военных преступников, осужденных международным Гаагским трибуналом, немало бывших университетских сотрудников. Самый знаменитый из них – профессор психиатрии Радован Караджич.
Заметим, университеты не просто действуют по заказу национальных государств. Они их формируют. По справедливому замечанию Э. Геллнера, прогресс национализма невозможно представить без прогресса университета. Но дело здесь не в национализме. Университеты производят новые языки описания и способы мышления, востребованные моментом. Эта востребованность – гарантия их собственной автономии. Национализм же – лишь один из произведенных ими продуктов.
Изначально «университетская автономия» – именно политическая автономия. В 1158 году Фридрих Барбаросса захватил Милан (по тем временам один их самых богатых городов Ломбардии) и созвал на Ронкальском поле сейм, дабы навязать североитальянским городам новый порядок управления. В этом славном мероприятии приняли участие болонские профессора-юристы, которым удалось предложить Барбароссе нечто большее, нежели просто новую политическую схему – они предложили ему новый язык описания политики и новый способ мышления о власти. Язык, который также помог Императору в борьбе с Папой. В благодарность за помощь со стороны болонских профессоров Барбаросса издал закон, по которому брал под свое покровительство тех, кто «путешествует ради научных занятий, в особенности преподавателей божественного и священного права». Болонские студенты освобождались от круговой поруки в уплате налогов и от подчинения городским судам Болоньи. То есть утрата (относительной) автономии североитальянскими городами способствовала развитию (относительной) автономии университетов.
Впрочем, не стоит все сводить к политической игре. Дело не в том, что университет занимает «правильную позицию». Он демонстрирует свою способность к производству востребованных способов описания мира. Благодаря ей университет превращается в своего рода «точку трансценденции», воспаряя над суетным миром, поднимаясь выше города, региона, империи, участвует в политической борьбе, как участвуют в ней арбитры, а не игроки. (Неслучайно и то, что Болонский университет – родина римского права.) Ранее такая возможность «институционализированной трансценденции» была закреплена лишь за церковью.
«Церковная метафора» – одна из самых сильных метафор самоописания университета, дошедшая до наших дней. В нашумевшем романе Роберта Пирсига «Дзен или искусство ухода за мотоциклом» приведен такой сюжет. Чтобы объяснить идею университета своим студентам преподаватель прибегает к аналогии: «Она начинается со ссылки на статью в газете, где говорилось о здании деревенской церкви с неоновой рекламой пива, висящей прямо над центральным входом. Здание продали и устроили в нем бар… В статье говорилось, что люди пожаловались церковным властям. Церковь была католической, и священник, которому поручили ответить на критику, говорил по этому поводу вообще весьма раздраженно. Для него этот случай открыл неописуемое невежество в том, чем в действительности является церковь. Они что, думают, что всю церковь составляют кирпичи, доски и стекло? Или форма крыши? … Само здание, о котором шла речь, не было святой землей. Над ним совершили ритуал лишения святости. С ней было покончено. Реклама пива висела над баром, а не над церковью, и те, кто не может отличить одно от другого, просто проявляют то, что характеризует их самих… Такое же смешение существует и по поводу Университета… Настоящий Университет, говорил он, не имеет никакого определенного месторасположения. Он не владеет никакой собственностью, не выплачивает жалований и не принимает материальных взносов. Настоящий Университет – состояние ума. Великое наследие рациональной мысли, донесенное до нас через века и не существующее ни в каком определенном месте. Состояние ума, которое возобновляется в веках сообществом людей, традиционно несущих титулы преподавателей, но даже эти титулы не являются принадлежностью настоящего Университета. Настоящий Университет – непрерывное сообщество самого разума».
Таким образом, университет оказывается чем-то вроде фабрики по производству языков описания и объяснения мира. Эта способность позволяет ему сохранить суверенитет и герметичность, которые связаны с его собственной позицией как точки трансценденции, внеположности описываемому миру. Интуиция внеположности и автономии довольно точно схватывается метафорой университета как Церкви Разума. Впрочем, говоря это, следует помнить – метафора «Университет как Церковь» есть плоть от плоти языка описания, созданного самими университетами.
Здесь имеет смысл различить инструментальные и терминальные метафоры. К инструментальным метафорам мы прибегаем для прояснения ситуации (чаще всего в корыстных целях навязывая собеседнику свое видение происходящего). Инструментальные метафоры вполне могут быть манипулятивными по своему характеру и вовсе не обязательно отражают тот язык, на котором мы не говорим, но действуем. Например, метафора «Университет – любимая дочь Короля» позволяет ректору университета претендовать на символический статус принца крови. А метафора «Университет – суверенное государство» позволяет до наших дней сохранять средневековый запрет на появление в кампусах вооруженной полиции без соответствующего разрешения ректора. (Такой запрет действовал до 1968 г. во Франции, а в некоторых молодых северокорейских университетах продержался до 90-х.)
Терминальные же метафоры – это метафоры конечные. Они говорят нами больше, чем мы – ими. «Университет как Церковь», видимо, некоторое время являлась конечной терминальной метафорой. Тем самым, искомым кодом университета.
В XX столетии университет уже не является местом привилегированного производства картин мира и центром разработки языков описания. (Справедливости ради следует сказать, что монополистом на этом рынке университет не был никогда и лишь изредка – мы уже говорили, когда именно – оказывался в авангарде.) Начинается коррозия университетской культуры и вместе с ней – способов самоописания университета. После Второй мировой войны мир обнаружил, что изменился. Ему требовались новые ответы на старые вопросы. И классический университет вряд ли мог в этом помочь. Так появились новые терминальные метафоры, перекроившие университетскую среду.
Паспорт и ID-карта признаны недействительными: украинцам указали на выход
РФ нашла замену Starlink для "Шахедов": в Минобороны рассказали о новой угрозе
Антициклон принесет экстремальный холод: синоптик назвала две самые опасные ночи февраля
Покупать доллары уже поздно: эксперты назвали лучший способ сохранить сбережения
Одна из них – метафора социальной инженерии. Мир сошел с ума, произошла война, война нанесла непоправимый урон, и сейчас наша задача – «починить» этот мир. Университет – это то, что «чинит» Европу. Университет как механик, который после катастрофы разгребает покореженные корпуса европейских государств и своими осторожными действиями возвращает их в норму, снова ставит на рельсы. В этом языке университет более не суверенен, а в лучшем случае автономен; он больше не учреждает свой собственный порядок описаний, перестает быть местом трансценденции, в котором вы, как тот, кто входит в университет, оказываетесь дистанцированным наблюдателем. Для Германии это означает конец классического гумбольдтовского университета с его требованием «уединения и свободы». Для Англии – поражение оксбриджской модели в символической борьбе с «краснокирпичными» университетами, наследниками индустриальной революции конца XIX века. Для Франции – проигрыш университетов Высшим школам, воплощавшим дух прогрессистских реформ. Во всех этих случаях речь идет о закате неутилитарного, непрагматического знания. Еще раздаются голоса о «воспитательной» ценности такого университетского продукта, но в новой метафорике – метафорике социальной инженерии – ему просто нет места.
Благодаря технократическому языку университет становится инструментом социальной политики. Эта метафора лежит в основе многих социально-инженерных проектов. Например, когда закрываются шахты Рурского угольного бассейна на западе Германии, складывается сложная социальная ситуация. И для того чтобы дети потерявших работу шахтеров не пополнили ряды уличных преступников, создается университет. Но правительство ФРГ подходит к этой социально-инженерной проблеме с немецкой основательностью: создается не просто резервация для молодежи, а по-настоящему хороший университет – Билефельдский (в котором затем работают Х. Шельски и Н. Луман). А в Финляндии, в результате процессов индустриализации, встала стратегическая задача: не дать лапландским оленеводам переселиться в крупные города, поскольку это приведет к тому, что северная часть страны обезлюдеет и контроль над территорией ослабнет. Так, в городе Йоэнсуу создается университет, где философии и социальным наукам обучаются дети оленеводов.
Впрочем, тем, кто родился в Советском Союзе (и, может быть, даже имел опыт поступления в советский вуз), не нужно рассказывать, как метафора «Университет – инструмент социального инженера» работает на практике. Самая яркая иллюстрация социально-инженерной метафоры – механизмы квотирования на вступительных экзаменах. Инженерия предполагает процесс проектирования. Инженерному мышлению нужен проект; например: «Мы хотим, чтобы в нашем обществе было столько-то образованных людей, которые будут заниматься тем-то и тем-то, для этого мы так-то и так-то изменяем университетскую политику, и нам все равно, что по этому поводу думают университеты с их автономией. Нам важно, чтобы в обществе было определенное количество образованных людей, которые будут занимать определенные позиции».
Классический пример – послевоенная Англия, 1946 год, страна в руинах. Комиссия Барлоу, которая собирается по инициативе Парламента, должна проанализировать процессы, происходящие в системе образования. Ее заключение: при сохранении имеющихся тенденций мы скоро будем на последних местах по показателям экономического развития, потому что через двадцать лет в нашей стране стратегически важные политические и экономические решения будут принимать люди, у которых нет высшего образования. Эти доводы не были приняты во внимание. Через двадцать лет, в середине 1960-х, собирается следующая парламентская комиссия («комиссия Робинса») и свидетельствует: Барлоу был прав, мы отстаем в экономическом развитии, потому что у нас кастовая система образования, для людей с улицы она закрыта, и университеты не выполняют функцию социального лифта. Тогда принимается ряд политических мер по «разгерметизации» высшего образования: пишется знаменитая Белая книга британского образования, увеличивается число вузов, наконец, создается Открытый университет, который возглавляет премьер-министр под патронажем королевы. Так был дан старт политике «открытых шлюзов», бунтующую молодежь рабочих окраин пытаются затащить в вузы. Впрочем, все эти решения, принятые в инженерной логике, имели множество непрогнозируемых последствий и, в конечном итоге, поставили под сомнение легитимность самой этой логики. Недавние инициативы по реформе образования в Англии и Шотландии – это попытка выйти из метафорики социальной инженерии в другой язык описания, где университет предстает в образе бизнес-корпорации. Однако насколько эта метафорика окажется конкурентоспособной на английской почве – вопрос времени.
Бизнес-корпорация – это принципиально иная метафора. Не средневековая корпорация (каковой университет и был на определенном этапе развития; хотя далеко не по всей Европе), вроде цеха портных или обувщиков – со своими обязанностями и привилегиями. А именно бизнес-организация, со всеми коннотациями «языка рынка». И если метафора социальной инженерии строится на идее максимизации общественного блага, понимаемого чрезмерно абстрактно, то метафора экономической корпорации держится на идее максимизации экономической выгоды (зачастую понимаемой чересчур конкретно).
Третья распространенная метафора – метафора университета как политической партии. Правда, работает она в основном либо в диктаторских режимах, либо в парламентских демократиях, где политические образования имеют давние связи с университетами, а также отдельными факультетами, школами и даже клубами выпускников. В Нидерландах был случай, когда правящая партия попала в чудовищный скандал из-за перебрасывания государственных ресурсов «своим» университетам. Иллюстрацией сращения университета и власти может служить единственный пример университетской диктатуры в истории ХХ века – диктатуры профессора экономики Коимбрского университета Антонио Салазара. Этот португальский университет более чем на десятилетие стал главным каналом рекрутирования правящей элиты, а сам Салазар – чтобы укрепить метафорику университетской автономии – ежегодно приезжал к ректору университета с просьбой о продлении академического отпуска еще на один год.
Метафора политической партии работает только тогда, когда университет является машиной по (вос)производству политических элит. В социально-инженерном языке описаний университет должен максимизировать общественное благо, в рыночном – прибыль, в политико-центричном – власть. Впрочем, не одну только власть, но еще и политическую солидарность. Это очень «клубная» метафора университета. (Что хорошо показал Теодор Ньюкомб в своих знаменитых «Беннингтонских исследованиях».)
Мы часто говорим о политической составляющей университетской жизни: студенческие бунты в Европе, имя ректора МГУ в списках «Единой России» и так далее. Но, пожалуй, политический язык самоописания университета – один из наименее разработанных. А точнее, один из наименее прозрачных. Проблема не в том, что он не производит яркого убедительной картины мира (и университета в нем). Ровным счетом наоборот: таких образов слишком много – столько, сколько точек соприкосновения сферы политики и университетской жизни.
Вот три метафоры, которые я бы выделил сегодня: университет как инструмент социальной инженерии, университет как корпорация, университет как политическая партия. Эти модели самоосмысления приходят на смену «старым» ресурсам воображения. Подчеркну: с Ронкальского сейма и до Второй мировой войны – а это почти вся университетская история – университет являлся тем местом, где производились картины мира и языки его описания (от религиозных утопий до националистических идеологий). Университет остался таким местом и в послевоенной Европе, однако теперь он в гораздо большей степени является объектом описаний. Даже тогда, когда эти описания производятся на им же созданном языке.
Интересно другое. Что противостоит метафоре как типу самоописания?
В наибольшей степени – тавтология. То есть мышление не в логике «X как Y», а в логике «Х – это Х». Университет есть университет – это базовая тавтология, тавтология самотождественности. Закон есть закон, порядок есть порядок, университет есть университет. Вам не надо говорить: университет – это политическая партия (или бизнес-корпорация). У вас уже есть ответ, вы знаете, что такое университет, и вам не нужны метафоры. Но в какой-то момент происходит разгерметизация дискурса, разгерметизация языка описания, начинается поиск метафор, в которых университет осмысливается уже не как университет, а по аналогии с чем-то иным.
Метафоризация университетского дискурса сильно возрастает в послевоенный период. Это связано с тем, что после Второй мировой войны университеты в Европе перестают рассматриваться как нечто, «автоматически» имеющее право на существование. Университет становится чем-то, что заново должно отстаивать свою автономию. Больше не работают стандартные модели легитимации университетской самозаконности. Но важнее, что языки описания, производимые в недрах европейских университетов, теряют свою убедительность. Тогда и самим университетам требуется новая стратегия самообоснования. Главное, что теряется в результате этого поиска – привилегированная позиция места, где производятся картины мира, где делаются «снимки Европы из космоса», а не «изнутри».
Поиски новой метафорики не ослабевают до сих пор. Одно из последних тому свидетельств – дебаты о так называемой «третьей роли» университета. Третья роль – это миссия «оказания услуг обществу». Попытка утверждения языка, в котором университет рядоположен институтам общинной саморегуляции. Это одна из разновидностей социально-инженерной метафоры, с той лишь разницей, что субъектом выступает не государство, а местное локальное сообщество, и целью является не строительство лучшего мира, а служение интересам местных общин. Такова терминальная метафора «третьей роли». Инструментально она чаще всего выражается фразой «Университет как квинтэссенция гражданского общества». Неслучайно, она получила наибольшее распространение именно в Финляндии и скандинавских странах, где традиционно сильны механизмы общинного самоуправления. Сейчас в ряде стран северной Европы положение о «третьей миссии» вузов закреплено законодательно. Принимая во внимание складывающиеся стратегии самообоснования, можно предположить, что третья роль вскоре отодвинет в сторону первые две – образование и исследования.
Как реализуется картина мира? Что заставляет метафору работать, приводить в действие механизмы социальных изменений? Как риторическая конструкция приобретает прагматический потенциал?
У меня нет исчерпывающего ответа на эти вопросы. Мы до сих пор не имеем четкого представления о том, что связывает внутреннюю институциональную культуру университета, производимую им картину мира и механизмы, превращающие эту картину в операционную схему – своего рода, «дорожную карту», актуальную повестку дня. Есть слишком много конкурирующих гипотез, и все они в равной степени убедительны.
Отмечу лишь, что то затруднение, с которым мы здесь сталкиваемся, указывает на ограничения нашего собственного языка описаний. Проблема состоит не только в том, чтобы вывести метафорику на первый план, уйти от традиционной социологической культуры подозрения, т.е. от полурефлекторного вопрошания в духе «что кроется за этим дискурсом?», «какие позиции в поле культурного производства занимают профессора?», «чьи интересы обслуживают университеты прикрываясь метафорой церкви?». Проблема еще и в том, чтобы увидеть конститутивную силу метафоры – ее способность к созданию новых социальных порядков.
Этот текст появился благодаря моему общению с Иосифом Фурманом и его коллегами по журналу «Культиватор»
Автор -кандидат социологических наук, заведующий кафедрой теоретической социологии и эпистемологии РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, научный руководитель факультета социальных наук МВШСЭН
.Источник: Постнаука




























