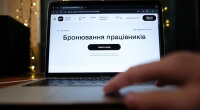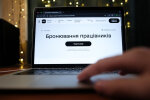Пюрвя Мендяев в реакции на статью Сергея Дацюка правильно написал: «Дацюк забыл упоминуть о том, что в вопросах воли главный водораздел — существует ли свобода воли вообще?» С этого водораздела я и начну.
О воле можно рассуждать как понятии, как конструкте и как реальности. Говоря о воле как понятии, мы погрузимся в длинный спор о словах, покольку речь пойдет об уточнении, в каком смысле мы о воле говорим – воля в бытовом понимании как преодоление сопротивления, воля в психологическом смысле как способность управления психическими процессами и выбором альтернатив, и воля в метафизическом контексте как ничем не обусловленная целе- и смылопорождающая активность. О свободной воле мы можем говорить только в этом, метафизическом аспекте – о действии вне обeckовленности. Но это уже разговор не о словах, а о реальности – слова приспособлены для обусловленного мира.
Идея свободной воли присутствует в культуре как некоторый идеал. Его либо относят к чему-то трансцендентному – представление о Первопричине, Causa sui, либо отрицают ее наличие, либо констатируют ее следы в психической жизни и по этим следам восстанавливают то, что оставило след, стремясь достичь реального состояния свободы воли. Выбор позиции по отношению к свободной воли – ее наличию и достижимости – это не «теорема», это «аксиома». Этот выбор Сергей Дацюк называет выбором между «презумцией воли» и «презумпцией определенности». Кто выбирает «аксиомы» наличия и достижимости, тот и начинает последовательно «волюнтаризировать» свое сознание, стремясь в пределе к скачку через пропасть, отделяющую определенность от порождения определенности ex nihilo, ну, в нашем случае не из nihilo, а из субстанции сознания.
Свободная воля порождает определенности. Но не следует забывать, что определенности возникают в уже в обусловленном мире и какая бы определенность ни была порождена свободной волей, она «загрязняется» смыслами обусловленного мира, становится орудем и инструментом обусловленных существ. Стремясь избежать этого, свободная воля в обусловленном мире оборачивается волей к власти – для удержания порожденной ею определенности от трансформации в другие.
Свобода (не обусловленная, не транслирующая, но порождающая) достижима, но это лишь краткий миг между двумя несвободами (всегда ссылаюсь на daniva2014, который четко выразил эту мысль в краткой заметке в ЖЖ). Несвобода (мир определенностей) «до того» и «после того» – это разные несвободы. Несвобода «после того» уже связана со свободой, знает о ней и может всегда к ней вернуться.
Презумпция определенности декларирует несвободу «вместо того», исходит из того, что воля становится инструментом некоторых не ею порожденных определенностей (мыслей, установок, ценностей). Но это означает, что от воли отсекается ее смысло-, целе- и ценностнопорождающая сторона. Остается лишь интенсивность и непреклонность в реализации не ею порожденных задач. Презумпция определенности не устраняет вопрос, откуда берется принятая определенность, которую транслирует то, что осталось от воли. Можно пройтись по цепочке определенностей и дойти либо до промежуточного пункта (мы условно принимаем за базовую ценность некоторую определенность — просто, чтобы обрести опору под ногами), либо до конечного, уже за пределами рационального.
Как это соотносится с нашей темой украино-российского конфликта? Как я уже писал, в его основе лежит фундаментальный конфликт между тем, что рождается и тем, что хочет продлить свое существование вопреки всем выявляемым тенденциям. Так или иначе, но проекты формируются элитами и онтология элиты проецируется через проект. Проект обычно приходит как очередной этап культурогенеза (тогда его формируют разделяемые элитой определенности). Но он может создаваться и «из ничего», когда определенности исчерпаны, а значит, их нужно породить. Но для этого как раз и нужна элита с опытом соприкосновения со свободной волей, элита, для которой исходной стала бы позиция порождение «из ничего», причем именно ПОЗИЦИЯ порождения, а не конкретные определенности.
Для России именно эта позиция актуальна. Россия располагает уникальным опытом: фундаментальный проект Третьего Рима, поглощение (но не уничтожение) этого проекта Российской империей, полное отрицание ценностей Империи и уничтожение всех ее проявленностй в советский период с радикальной заменой совершенно иными структурами (с неуничтоженным, однако, русским культурным фоном, который начал медленное переваривание советских струтур), и, наконец, современный период без проекта. После этого и остается только создать то, чему «не быти» («два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти»), а сделать это можно только на основе презумпции воли, презумпция определенности этого не позволяет, поскольку вневолевые определенности как бы транслируются извне.
Украина в этом отношении попадает в чрезвычайно интересное положение: рядом с ней медленно умирающая своей смертью колоссальная цивилизация (Европа), по другую сторону Россия, для которой остался единственный шанс сохранить свое величие – создать то, чему «не быти», а сама Украина готовится создать свой собственный, ни на что не похожий проект. Три фундаментальные позиции – подчиниться смерти, пройти сквозь смерть и впервые родиться в этом мире…