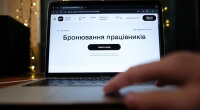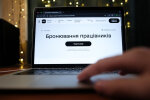Недавно вездесущий «Фэйсбук» донес весть об очередном скандале в Южной Корее. Поменьше масштабом, чем «мерс» и «севоль», но в своей сфере достаточно значимый. Оказывается, как доказал корейский писатель И Ынджун, писательница Син Гёнсук, которая полагается корейцами почти живым классиком, списала свое произведение у японского писателя Юкио Мисимы.
Сама по себе новость не перевернула для меня мир. То, что корейские писатели, как сороки, тырят всё, что плохо лежит, списывая у японцев, американцев, друг друга и самих себя, мне стало ясно уже много лет назад. Непонятно, чем особенным провинилась Син Гёнсук, типичная представительница многочисленного отряда корейских теткописательниц. Мое сердце, однако, тронул комментарий к новости, написанный моей уважаемой коллегой N. N возмутил не факт плагиата, а то, что скандал подняли, как она утверждает, зря: «В Корее настолько мало читают, что представить не могут насколько литература интертекстуальна. Она использует тексты, написанные прежде, в этом видится традиция и преемственность. На скольких авторов повлиял Толстой, Маркес… «Дочери аптекаря Кима» Пак Гённи и «Тайна и ложь» Ын Хигён тоже сплошные «Сто лет одиночества»».
Тронул этот комментарий меня потому, что N очень напомнила мне меня саму энное время назад. Когда я была молода и прекрасна, я тоже занималась литературой Южной Кореи. И тоже пыталась оправдать то, что оправдать невозможно. Из того унылого второсортного мусора, который называется современной южнокорейской классикой, я упорно пыталась вычленить хоть одно светлое зернышко, найти хотя бы проблеск таланта и самостоятельных мыслей.
Я очень сердилась тогда на корейцев, которые, узнав, чем я занимаюсь, осторожно хмыкали, намекая на то, что я занимаюсь миражем, фикцией, ибо в Корее литературы нет. Мне казалось, что эти люди, пренебрежительно относящиеся к литературе своей страны, носят в душе неизжитые колониальные комплексы. А я чиста в своих помыслах и непредвзята в суждениях.
Я не вполне осознавала, что мотивы моих тогдашних суждений не были стопроцентно альтруистскими. Признать правоту тех, кто говорил о вторичности корейской литературы, означало бы признать, что я занимаюсь чепухой. Я находилась в Корее на деньги государственного корейского фонда, на его деньги изучала корейскую филологию, и, уважая и себя, и корейцев, не могла бы брать их политые трудовым потом воны за работу, которую внутренне презираю. Мне было хорошо в Корее, и для успокоения своей совести я честно старалась найти жемчужное зерно в куче изучаемого не пойми чего.
Если бы вихрь частной жизни не унес меня тогда подальше от моих корейских грантодателей, я, думается, рылась бы в этой куче и по сей день. Но, к великому счастью, я оказалась в Австралийском национальном университете, где начала заниматься малоисследованной темой северокорейской культуры как инструмента государственной пропаганды. И эта работа, наконец-то, освободила меня от гнетущего чувства вины перед несуществующими гениями южнокорейской литературы.
Дальнейший опыт периодического приобщения к южнокорейской литературе, в виде переводов некоторых классиков (опять же по заказу корейских фондов), только подтвердил для меня ее вторичность и незначительность. Я укрепилась в своем первоначальном подозрении, что корейские «высокие» писатели – это люди, за редким исключением, не имеющие ни своих слов, ни своих мыслей, с удручающе бедным жизненным опытом и кругозором. Сам факт того, что за свою писанину они получают деньги, объясняется исключительно их паразитированием на корейской традиции уважения к интеллектуальному труду. (Хотя, судя по количеству корейских писательниц, халяве этой скоро придет конец. Нашествие женщин на некую социальную нишу – первый признак снижения ее доходности и престижа.)
Больше всего меня в оценках корейской литературы убедили даже не переводы, а опыт сравнения ее с литературами других стран. Понятно, что сравнивать корейцев с мировыми глыбами вроде Толстого и Достоевского – это попросту нечестно. Хотя, помнится, единственная тройка, полученная мною за учебу в аспирантуре факультета корейской филологии, была за как раз за презентацию, заказанную мне профессором: он попросил меня сравнить «Анну Каренину» и «Бесчувствие» Ли Гвансу. Это был третий год аспирантуры, когда играть в игру «найди скрытого гения корейской литературы» стало уже невыносимо, и я оторвалась тогда по полной. Больше всего мне понравился строгий вопрос профессора: «А у кого вы эти рассуждения прочли?» Этот вопрос, как говорится, многое объясняет в состоянии корейской интеллектуальной мысли.
Так вот, я не беру признанных чеховых и диккенсов. Я беру рядовых писателей из других народов, проживающих с корейцами одновременно на планете.
С некоторого времени я завела традицию: посещая новую для меня страну, я обязательно захожу в тамошний книжный магазин и покупаю пару переводных книг современной художественной литературы этой страны. После трех-четырех такие поездок мне стало ясно, что мои корейские друзья совершенно правы. В Индии за первую неделю путешествия у меня уже появился любимый автор. Сборник коротких рассказов, наспех купленный в провинциальном американском аэропорту, захватил меня так, что не дал спать весь долгий полет домой. В Японии литература не вполне в моем вкусе, но уж в оригинальности ее не усомнишься. В Германии роман мне продали со словами: «Обязательно прочтите, автор замечательный, эту его книгу у нас сегодня все знают».
Что можно сказать на этом фоне о южнокорейской литературе? Что после всех лет обучения я все еще недостаточно ее прочитала? Пилите, Шура, пилите, они, на самом деле, золотые?
К сожалению, из-за финансовых соображений зарубежное корееведение сегодня вынуждено пилить эти заведомо чугунные гири. Оно вынуждено играть по правилам корейских фондов, продвигающих так называемую «высокую национальную культуру», от глубоко вторичных литературных текстов до завязок на корейских традиционных кальсонах, оригинальность которых положено прославлять.
А дальше срабатывает обычный механизм психологического самосохранения, некий стокгольмский синдром, когда специалист, насильно пожененный на кальсонах, начинает доказывать себе и окружающим, что его предмет достоин всяческого уважения. Что король корейской литературы вовсе не гол. Что банальный плагиат, оказывается, можно обозначить богатым словом, почти достойным Фимы Собак: интертекстуальность.
Масштабный удар России по энергетике: АЭС снизили мощность генерации
Потеряете до 40% сбережений: эксперт объяснил главную ошибку при покупке золота
В Украине с 1 апреля изменят правила оплаты больничных: кого коснется усиление контроля
За руль уже нельзя: водителей в Украине ограничили по возрасту
Корейские маркеры
Проблема в том, что сама по себе идея сделать «высокую культуру» маркером, идентификатором Кореи для иностранцев, однозначно неудачна. В Корее, сколько ни ищи черную кошку в темной комнате, нет ни оригинальной философии, ни авантюрно-завлекательной древней истории, ни яркой литературы, ни привлекательной для иностранцев национальной кулинарии. Культурный центр главных ворот Кореи, Инчхонского аэропорта, пытается представить эти маркеры на высшем для Кореи уровне, и только лишний раз дает понять, насколько все это скудно, лишено воображения, безнадежно вторично. Даже для скучающего в ожидании рейса европейца понятно, что за теми же завязками на кальсонах лучше ехать в Японию, там это все куда круче. Национальная корейская кухня, с ее ограниченным набором специй и вкусов, этот плод многовекового недоедания корейского народа – особая песня.
В Корее, сколько ни ищи, нет оригинальной архитектуры, города здесь похожи друг на друга – не как близнецы, а как один и тот же человек похож на самого себя в разном возрасте. Пусан – это Сеул пятнадцать лет назад, какой-нибудь Осан – это Сеул двадцать лет назад и прочее.
Означает ли все вышесказанное, что Корея плохая, неинтересная страна? Что корейцы-люди нетворческие? Ни в коем случае.
Несмотря на то, что в Корее нет всего того, что традиционно принято считать высокой культурой, а, допустим, в Индии просто завались и архитектуры, и философии, и потрясающей кухни, почему-то в Индию иностранцы не рвутся, а в Корею – едут с удовольствием и, при возможности, надолго. Причем не гастарбайтеры из третьего мира, а вполне себе приличные высококлассные специалисты из России и Канады, США и Австралии. Почему?
Если условного исследователя кальсон-корейской прозы хорошенько расслабить, посадив в каком-нибудь из уютных сеульских баров и напоив соджу до полной открытости подсознания, и спросить, что привлекает его в Корее, заставляя учить нелегкий язык, то в предложенным списке не будет ни одного ходового маркера из списка Академии корейских исследований. Там стопроцентно не будет писателя Ли Мунрёля и корейской керамики. Не будет ни национальной музыки кугак, немилосердно бьющей по ушам, ни даже фильма «Олд бой». Вместо этого там будут разнообразные ништяки современной городской цивилизации с ненавязчивым восточным колоритом, проходящие под кодовым словосочетанием «личный комфорт».
В этом списке будут высокие зарплаты и приличные бытовые условия иностранных специалистов. Отлично налаженный общественный транспорт и доступные личные машины, дороги с прекрасными развязками и надежным покрытием. Чистые, безопасные, зеленые улицы. Удобные кампусы.
В том списке будет дешевый и качественный общепит на все вкусы, кошельки и настроения (кому – глубоко аутентичную кимчхи-ччиге, кому – американский стейк и таиландский падтай) и шопинг, который делается по принципу визуализации. То есть тебе достаточно зажмуриться и четко представить нужную тебе вещь, пусть даже самую бредовую (штаны зеленые с золотистыми лампасами, слегка расклешенные снизу, длиной до середины лодыжек) и лечь спать. Завтра, когда ты пойдешь по улице, эти штаны сами на тебя кинутся с ближайшего прилавка. В этом списке будут приветливые и ухоженные люди, одетые в своей массе по последнему писку моды. Прекрасная медицина, оборудованная по последнему слову техники. Дешевые детские садики с великолепными образовательными программами и школы, в которые иностранцу с каждым годом все менее страшно отдавать своих детей. В этом списке будут пониженная агрессивность корейцев, их вежливость и ненавязчивость в личных контактах. Знание английского абсолютной массой людей на том уровне, который не создает проблем общения. Возможность иностранцу жить в Корее так, как он хочет, самому регулируя степень интегрированности в среду.
Все это, включая и современные ритуалы вежливости-толерантности к чужакам, было создано в недрах других стран и культур. В Корею современная городская цивилизация была привнесена извне, совсем недавно и с определенной долей насилия. Тем не менее, эта цивилизация развилась в Корее до полного блеска, часто не достигнутого даже в странах-прародительницах. Япония, которая эту цивилизацию в Корею, собственно, и принесла на штыках, сегодня выглядит по сравнению с ней чистенько, но бедненько.
Южнокорейцы оказались гениями современного комфорта. Как кошки, они умеют устраивать пространство под свои нужды, и истово, без устали работают в этом направлении, изобретая все новые фенечки и прибамбасики, которые делают жизнь легче, удобней и неизмеримо приятней. Именно корейская любовь к бытовому комфорту, умение и желание над этим комфортом работать, а не высокая философия и литература, и есть, на сегодняшний момент, их национальная стихия.
Комфортная культура
Если подумать, то комфорт – это основное качество и популярной корейской культуры. Все эти драмы с вишневым сиропом и легким ментоловым послевкусием. Все эти мальчики-попрыгайчики и девочки-белочки из кей-попа, под чью музыку так приятно пьется зеленый чай-латте в кафе. Все эти вампирские триллеры с полным отсутствием смысла, но непременными оторванными конечностями, по ощущениям напоминающие химический рамён: питательности почти никакой, но рот обжигает вполне исправно. Эти триллеры хорошо смотреть влюбленным, чтобы девушка в страшных местах ахала и грациозно прижималась к плечу своего милого.
Комфортны и любимые корейцами супхили (수필), или эссе. Обычно этот жанр представляет собой короткие и легкие замечания о жизни, с налетом грустинки и мягкого юмора, со стихами и цитатами из классиков. Пока на свете не существовало «Фейсбука», я была уверена, что супхили – это действительно разновидность корейской литературы, и даже переводила кое-что из них. Но сейчас мне стало понятно, что супхиль – это обычная форма выражения своих мыслей для нормально образованного корейца. Мой начальник, весьма серьезный дядя из высоких академическо-политических кругов, выдает в своем «Фейсбуке» таких супхилей по нескольку на день. Администрация многоквартирного дома, в котором я сейчас живу, даже объявление о запрете выставлять мусор в коридоре умудряется разукрасить парочкой цитат из классиков. Все-таки не зря детишек в корейских школах годами тиранят требованиями описывать свои мысли в дневниках.
Мила, прелестна и комфортна в Корее и культура для детей. Ребенка в Корее можно спокойно оставлять наедине с детской программой, не опасаясь ни постмодернистских переосмыслений морали, ни излишних творческих изысков ее создателей. Любая детская песенка, любой мультик здесь – как вкусная и полезная витаминка, обязательно несет в себе полезный мессидж и учит детишек хорошему. Здесь нет обаятельных хулиганов и привлекательных наглецов, порок наказывается, добро торжествует. Причем торжествует оно в чисто традиционном, разумно-коллективистском духе. Бегемот и жираф, столкнувшись на узкой дорожке в лесу, сначала злятся и винят друг друга, а потом, осознав бессмысленность взаимных претензий, просят друг у дружки прощения, и обоим сразу становится весело. Когда слушаешь такую песенку, понимаешь, почему в корейском информационном пространстве не приживаются фигуры вроде ксюши собчак или божены рынской.
Корейские стихи – еще один литературный жанр, строго стоящий на страже психологического здоровья и комфорта людей. Недаром корейцы так любят воспроизводить стихи всюду: на дверях в метро, на железнодорожных платформах, на камнях в парках. Даже на дверях общественных туалетов можно встретить любимые стихи, напоминающие вам о приходе весны или радости созерцания спелых плодов хурмы. В сочетании с негромкой классической музыкой из репродуктора стихи на стенке туалета весьма облагораживают ваш визит в это приземленное заведение.
А как же высокая культура?
А никак. Как только корейская культура поднимает планку, замахиваясь на что-то монументальное, она моментально киснет, становясь тягостной и мутно-депрессивной.
Свою форму современная корейская классика унаследовала от прогрессивной корейской литературы начала 20 века, которая, в свою очередь, следовала традициям русского и французского «критического реализма». Подобно Чехову и Мопассану, корейские писатели в 1910-1920 годах описывали страдания людей с целью дать обществу какие-то прогрессивные мессиджи, как то: не надо выгонять крестьянина с земли, он рассердится и устроит поджог; не надо ездить на рикшах и при этом мало им платить, они от этого болеют и умирают; не надо женить пятилетних мальчиков на взрослых девушках, даже если семье малыша очень нужна работница в доме, мальчик вырастет и будет потом очень несчастен.
И эту литературу – читали. При всей ее депрессивности, она будила добрую энергию в человеческих душах. Тогдашняя корейская интеллигенция ужасалась страданиям рикши из рассказа «Счастливый день», проникалась, и думала о том, как исправить положение народа.
Современные корейские классики продолжают нажимать на те же, когда-то хорошо работавшие кнопки. Однако, в отличие от своих предшественников, они так и не смогли выдумать ни одного внятного социального мессиджа. У меня вообще впечатление, что всю работу по основным социальным мессиджам в Корее уже выполнил автор «корейского экономического чуда» президент Пак Чонхи, и инженерам человеческих душ абсолютно нечего добавить к его знаменитой мантре «чаль сарабосе» («давайте жить хорошо»). Поэтому они мучают своих героев по привычке и не пойми зачем, бесконечно репродуцируя один и тот же жалостный, как тюремная песня, мотив («жила-была девочка, потом вдруг заболела и умерла», «жил-был мальчик, его очень дразнили в школе, а потом развелись родители и заболел раком младший брат, мальчик заплыл далеко в море и утонул»), страниц эдак на двести.
К счастью для душевного спокойствия корейцев, эту литературу здесь никто не читает. И только фонды корейских исследований упорно переводят истории про бедных мальчиков-девочек на максимальное количество языков. Можно поручиться, что в каждой стране читать это будет ровно один человек: кореевед, для написания научной статьи «о современной корейской литературе».
Зачем же имиджмейкеры Кореи стимулируют переводы литературы откровенно скучной, вторичной, да еще насыщенной депрессивными посылами? Почему они никак не хотят ассоциировать свою страну с легкостью и комфортом, с солнечностью и жовиальностью, которые снискали ей ее настоящую славу и являются сегодня куда более характерными маркерами Кореи, чем пресловутый «хан» – неизбывная печаль и страдание?
Думается, дело тут опять же в стокгольмском синдроме, только несколько другого плана. Фонды корейских исследований, формирующие имидж страны за рубежом, являются в большой степени заложниками виктимности корейского национального самосознания.
Эта виктимность – одна из самых парадоксальных особенностей Кореи. Народ, который в реальности то и дело проявляет качества победителя, являя миру чудеса жизнестойкости, трудолюбия, оптимизма, последовательно добиваясь всего, что задумал, народ, неофициальным лозунгом жизни которого стала пословица «даже если на тебя упадет небо, обязательно отыщется лазейка для выхода» – так вот, этот удивительный народ, тем не менее, на некоем общекультурном уровне почему-то любит представлять себя в виде стайки слабеньких зайчиков, которых беспрестанно обижают все вокруг.
Приступы экзистенциальной жалости к себе случаются у всех. Но, к сожалению, корейская политическая мысль закрепила их в форме национальной доктрины, что хорошо продемонстрировали недавно прошедшие торжества по поводу 70-летия освобождения Кореи. Иностранцы, работающие здесь, с некоторым обалдением наблюдали, как корейские медиа, независимо от политических оттенков, слились в мазохистском экстазе, представляя всю историю, все существование страны в виде серии эксклюзивных страданий и всяческих несмываемых обид. Современные классики Кореи в своих романах отражают именно такое видение мира унылой жертвы, захлебывающейся от жалости к себе и упоенно расковыривающей старые болячки. Корейским националистам – как, впрочем, всем их солипсическим собратьям по разуму – не приходит в голову оглядеться по сторонам и сравнить свой исторический опыт с опытом других народов, чтобы понять, насколько им, в самом деле, повезло.
От этой принципиальной виктимной позиции корейцам нелегко отказаться как по концептуальным, так и чисто практическим политическим соображениям. Невозможно прямо вот так взять и признать, что корейцы давно сделали всех своих обидчиков и сегодня наслаждаются плодами своей победы.
…Если степенного администратора некоего условного корейского фонда усадить в вышеупомянутом уютном баре и спросить – читает ли он сам в свое свободное время ту кислятину, который предлагает переводить на иностранные языки, или предпочитает ей сборник комиксов? Слушает ли сам в машине пхансори, эти унылые хрипы под барабан, на изучение которых только что подписал грант, или скорей переключает его на мажорного Сая? – он будет долго уворачиваться от честного ответа. Он будет отговариваться занятостью и усталостью от трудов праведных, которая не позволяет ему предаться правильным интеллектуальным наслаждениям. Потребуется промышленная порция соджу, чтобы его чакры, наконец, раскрылись и администратор высказал бы сокровенное – что в гробу он видал всю эту высокую культуру.
И этот двойной стокгольмский синдром, который намертво скрепляет иностранных исследователей с корейскими администраторами в их оправданиях занудных интертекстуальностей, не внушает никаких надежд на то, что ситуация в южнокорееведении будет меняться в обозримом будущем. Что вместо вымученно-искусственного, ходульного образа Кореи, который не интересен ни иностранцам, ни самим корейцам, будет, наконец, изучаться Корея живая и настоящая. Что на ближайшей конференции, спонсируемой корейцами, можно будет, наконец, услышать не доклад типа «образ матери-страдалицы в женской прозе Кореи», а что-нибудь дельное об истории сеульского городского планирования или социологии корейских кафе. Что на банкете такой конференции будет звучать, наконец, не неудобоваримая музыка самульнори с исполнителями в карнавальных ханбоках, а нормальная корейская попса, которой будет подпевать половина зала.
Все вышесказанное означает две довольно печальные вещи. Во-первых, деньги корейских налогоплательщиков, идущие на распространение корейского влияния в мире (а именно это и есть конечная цель любого государственного фонда корейских исследований), растрачиваются, в значительной части, впустую. А во-вторых, Корея реальная, интересная и любимая, по-прежнему остается для иностранцев неизученной и непонятой.
Источник: Корея и мы